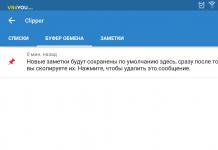Язык меняется столь же стремительно, как и мир вокруг нас. Профессор Максим Кронгауз изучает лексические новации.

Вы говорите, вас уже просто достали такие слова и выражения, как « вау», « как бы», « по-любому», « правильное пиво»? Вы говорите, вам выносят мозг « мерчендайзеры» и « сейлзменеджеры» вкупе с « супервайзерами» и « манимейкерами»? Прочитайте книгу Максима Кронгауза « Русский язык на грани нервного срыва» – и вы успокоитесь. Автор, в котором попеременно борются раздраженный обыватель и хладнокровный лингвист, объяснит вам, что язык меняется, потому что меняется мир, и не надо бояться лексических новаций. Вы ведь сами только что слово « достали» употребили в новом значении. А « выносят мозг» – это, простите, что такое? Где вы этого набрались? Побеседуем с профессором.
« Если неправильное повторяется ежедневно, оно перестает быть неправильным»
– Не боюсь вам признаться: я беспримесный раздраженный обыватель. Я не могу спокойно воспринимать многое из того, чем сегодня переполнена устная и письменная речь: « он по жизни оптимист», « доброго времени суток!», « в Украине», « элитные окна», « эксклюзивная баранина», « стритрейсеры», « трендсеттеры»... А вот в вас раздраженный обыватель борется с лингвистом. И кто побеждает в конце концов?
– Побеждает, конечно, лингвист, а раздраженный обыватель привыкает. Все-таки мы с вами сегодня говорим иначе, чем говорили в 80-е годы XX века. И как ни сопротивляемся неприятным нам лексическим новообразованиям (а они – производное от современной действительности), все равно постепенно привыкаем.
– А кто узаконивает новое в языке, превращает это новое в норму?
– Это происходит путем переиздания Большого словаря русского языка. Иногда он, обновленный, вызывает ожесточенные споры. Так было несколько лет назад, когда журналисты обнаружили, что слово « кофе» из мужского рода перекочевало в средний. Между прочим, это был не первый словарь с « кофе» среднего рода, но первый, на который обратили внимание. Теперь к словарям вообще обращаются редко. Поэтому изменение нормы обычно остается незамеченным: как мы говорили и писали, так и продолжаем говорить и писать. Но лингвисты, они ведь не с потолка берут изменение нормы, а опираются на речевую практику. Причем на речевую практику образованных людей, которая тоже меняется. С одной стороны, имеется предыдущий словарь, который нормы удерживает. А с другой – существует речевая практика, которая нормы меняет. И вот лингвист взвешивает все « за» и « против» и в каких-то случаях узаконивает речевую практику, противоречащую словарям.
« Мы потеряли общее культурное пространство»
– А почему долговечными оказались « мемы» советской эпохи? Столько лет прошло, но и сегодня можно услышать: « а казачок-то засланный», « наши люди на такси в булочную не ездят», « короче, Склифосовский», « это нога у кого надо нога»...
– Я недавно опубликовал статью, которая называлась « Нечем аукаться, нечем откликаться». Про то, что раньше у нас было общее культурное пространство, а теперь его нет. Цитаты, которые вы привели, они же вне контекста абсолютно бессмысленны, но они объединяли людей из разных слоев общества. Это был способ опознать своего. И этот цитатный диалог вели десятки миллионов людей. Был диалог и более узкий. Скажем, интеллигенция могла перекликаться цитатами из Окуджавы, братьев Стругацких. Были и другие языковые круги. Но был и общий круг. Сегодня же цитатный диалог идет лишь в Интернете, потому что кино, литература цитат почти не дают. Пожалуй, только фильмы « Брат» и « Брат-2» дали несколько емких цитат. И прежде всего благодаря Сергею Бодрову, сыгравшему в этих фильмах главную роль. Герой Бодрова в некотором смысле скреплял людей из разных социальных слоев. Но и это ушло. Наше общество расколото, и расколото, в частности, по языку. И никак не желает скрепляться. Сегодня, ведя занятия на семинаре, я не могу найти для общения со студентами ни одной общей, прочитанной всеми книги, ни даже одного фильма, который бы они все недавно посмотрели. А раз нет общего культурного пространства, то и цитаты функционируют внутри маленьких разрозненных сообществ, не преодолевая их границ. Отсутствие общих культурных героев и общих цитат, с помощью которых мы бы могли аукаться, перекликаться друг с другом, – явления одного порядка.
– Каково влияние Интер-нета на язык?
– Оно огромно. Влияние идет ведь сначала не на язык, а на коммуникацию. Появление блогосферы, социальных сетей – это появление новых видов коммуникации. Возник некий промежуточный тип речи. По виду это письменная речь, мы ее глазами воспринимаем, а структурно это речь устная. И здесь происходят интересные процессы. Например, письменная речь, существующая в Интернете, все настойчивее приобретает качество, которое условно можно назвать устностью. И формальных средств для выражения этой устности сегодня уже не хватает. Поэтому все время что-нибудь изобретается. Самые распространенные средства для выражения устности – это, конечно, смайлики. Они компенсируют отсутствие интонации, отсутствие мимики и очень активно используются. Теперь вот появилось зачеркивание. То есть ты что-то вроде бы стер, но... оставил. Возникает, таким образом, новое измерение речи. Это уже не линейный текст, во всяком случае не та письменная речь, к которой мы привыкли. Так что в Интернете сегодня идет очень активный эксперимент. И то новое, что появляется, влияет на язык. Скажем, смайлики уже встречаются и в книжках, где они вроде бы неуместны.
« Чиновника легко опознать по его речевому портрету»
– Знаменитое « мочить в сортире», « замучаетесь пыль глотать», « шакалят у иностранных посольств» или недавнее словечко « отбуцкать» – это и есть « путинизмы»?
– Не совсем так. В чем особенность « путинизмов»? В том, что это сниженная лексика на фоне грамотной речи. Именно так. Ведь когда человек говорит грамотно, соблюдает языковые нормы и вдруг вставляет резкое словцо или выражение, его речь воспринимается острее. От многих своих предшественников Путин отличается еще и тем, что, будучи главой государства, создает образ жесткого носителя языка, такого речевого мачо.
– Это сознательно создаваемый образ или просто таковы речевые особенности нашего национального лидера?
– Я думаю, здесь и то и другое. Хотя многие упрекают Путина за нарушение литературной нормы, его речи запоминаются. И журналисты на пресс-конференциях всегда ждут, когда Путин скажет что-нибудь выразительное. Очевидно, что этот прием работает. Медведев в пору своего президентства породил пару брутальных фраз (например, « кошмарить бизнес»), но было видно, что для него это не органично, и что он просто пытается подражать своему старшему коллеге. В этом смысле эпоха Медведева была метанием между своим и чужим языковым портретом. Но « медведизмов» так и не появилось. В публичной речи Медведев свою натуру не проявил. Мы так и не знаем, как он говорит на самом деле.
– А речевой портрет других наших политиков можете составить?
– Подарок для лингвиста – речь Жириновского. Блестящий оратор, который может противоречить себе в двух соседних фразах и тем не менее быть убедительным. Если ему важно эмоционально подавить собеседника, то на нормы он не обращает внимания, говорит, может быть, и неправильно, но очень убедительно, очень ярко. Я бы еще вспомнил Виктора Степановича Черномырдина. Если у Путина « путинизмы», то у Черномырдина « черномырдинки». Это была поразительная фигура. Говорил он как советский директор, был косноязычен, но при этом выдавал потрясающие афоризмы. Например, самый известный: « Хотели как лучше, а получилось как всегда». Или: « Никогда такого на Руси не было, и вот снова». Это удивительно, как косноязычие приводило к глубоким и ярким высказываниям.
– Почему чиновники говорят таким стертым, таким... никаким языком? Публичная лексика зависит от степени человеческой свободы?
– Конечно. Я знаю чиновников, которые в бытовом общении люди как люди. Но когда они выступают публично, начинают говорить стерто и даже косноязычно. Это такой правильный режим речи.
– Так надо для должностного самосохранения?
– Да. Они живут в среде, где главная задача – говоря в течение часа, ничего не сказать. Задача непростая, но чиновники обучаются такому ораторству. При всем уважении к Михаилу Сергеевичу Горбачеву надо признать, что он умел долго говорить и ничего не сказать. Сейчас он говорит намного лучше. Он говорит свободнее. Потому что стал менее зависимым человеком. А чиновник – зависим. И его легко опознать по речевому портрету. Хотя чиновники теперь и в « Твиттере» общаются, и в « Фейсбуке», и еще где-то, и вроде как должны освободиться, но очень трудно скинуть кожу: человек только начал фразу, а через несколько слов уже понятно, что он чиновник.
« Предсказать появление нового слова невозможно»
– Достоевский ввел в обращение слово « стушевался», а также « лимонничать» и « апельсинничать» – в значении « проявлять чрезвычайную деликатность чувств». Лингвисты могут предсказывать рождение каких-то новых слов?
– Существует лингвистическая футурология, но очень научная, и про нее даже не очень интересно говорить. А ненаучные предсказания столь же забавны, сколь и несерьезны. Да и едва ли сегодня найдется писатель, способный обогатить язык каким-нибудь новым словом. Вот журналист или блогер, случайно обронив что-нибудь этакое, мгновенно становится автором нового слова. Предсказать же появление этого слова лингвисты не в состоянии. Допустим, некое выражение вдруг стало чрезвычайно популярным. Мы можем тогда отследить, где оно появилось, сколько раз повторялось, как вышло за пределы сайта и как распространялось дальше. А вымучить фразу, запустить ее в Интернет и добиться, чтобы она стала популярной, невозможно. Хотя попытки предпринимаются, есть даже специальный сайт, где пробуют сочинять мемы. Но это как написать шлягер, создать хит. У кого-то получается, у кого-то нет. Поэтому лингвистическая футурология – приятная, но безответственная забава.
« Мне претит лингвистическое высокомерие»
– Все-таки до какого предела нам надо быть толерантными к языковым гримасам? Неужели доживем до времен, когда станут словарными « вклЮчит», « звОнит», « по-любому»?
– Прогнозы лингвиста – дело сомнительное. Неправильные слова могут быть узаконены, если образованные люди, которые придут на смену нам, не будут вздрагивать при произнесении этих слов. А до тех пор, пока эти слова у нас вызывают отторжение, пока являются речевой характеристикой и многое говорят нам о собеседнике, о его месте в социальном пространстве, их нельзя возвести в норму. Но по мере того, как эти слова становятся нейтральными, они получают все больше шансов войти в словарь. « По-любому» и « по жизни» таких шансов не имеют, хотя кто знает. Меня часто спрашивают: надо ли собеседника поправлять и требовать от него грамотной речи? Это вопрос индивидуальной стратегии. Думаю, нам бы не помешало проявлять больше терпимости к чьим-то речевым ошибкам. Имеет смысл поправлять только детей, речь которых еще можно откорректировать. А поправлять взрослых людей, даже если они говорят не вполне так, как тебе хочется, самоутверждаться за их счет, выставляя напоказ свою безупречную грамотность... Я назвал бы это лингвистическим высокомерием, мне оно претит.
…ошибки одного поколения становятся признанным стилем и грамматикой для следующих.
И. Б. Зингер
Слаб современный язык для выражения всей грациозности ваших мыслей.
А. Н. Островский
Максим Кронгауз – известный лингвист, профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой русского языка, директор Института лингвистики РГГУ, автор монографий и учебников и в то же время – человек широкого круга интересов, обладающий даром доступно и интересно рассказывать о проблемах науки. Последние 10 лет постоянно участвовал в академических и общественных дискуссиях о состоянии современного русского языка, публиковал статьи на эту тему не только в научных изданиях, но и в средствах массовой информации, в частности в таких авторитетных журналах, как «Новый мир», «Отечественные записки», «Власть», «Harvard Business Review». В 2006 году вел еженедельную колонку в газете «Ведомости», посвященную новым явлениям в русском языке.
Заметки просвещенного обывателя
Надоело быть лингвистом
Я никак не мог понять, почему эта книга дается мне с таким трудом. Казалось, более десяти лет я регулярно пишу о современном состоянии русского языка, выступая, как бы это помягче сказать, с позиции просвещенного лингвиста.
В этот же раз откровенно ничего не получалось, пока, наконец, я не понял, что просто не хочу писать, потому что не хочу снова вставать в позицию просвещенного лингвиста и объяснять, что русскому языку особые беды не грозят. Не потому, что эта позиция неправильная. Она правильная, но она не учитывает меня же самого как конкретного человека, для которого русский язык родной. А у этого конкретного человека имеются свои вкусы и свои предпочтения, а также, безусловно, свои болевые точки. Отношение к родному языку не может быть только профессиональным, просто потому, что язык это часть нас всех, и то, что происходит в нем и с ним, задевает нас лично, меня, по крайней мере.
Чтобы наглядно объяснить разницу между позициями лингвиста и обычного носителя языка, достаточно привести один небольшой пример. Как лингвист я с большим интересом отношусь к русскому мату, считаю его интересным культурным явлением, которое нужно изучать и описывать. Кроме того, я уверен, что искоренить русский мат невозможно ни мягкими просветительскими мерами (то есть внедрением культуры в массы), ни жесткими законодательными. А вот как человек я почему-то очень не люблю, когда рядом ругаются матом. Я готов даже признать, что реакция эта, возможно, не самая типичная, но уж как есть. Таким образом, как просвещенный лингвист я мат не то чтобы поддерживаю, но отношусь к нему с интересом, пусть исследовательским, и с определенным почтением как к яркому языковому и культурному явлению, а вот как, чего уж там говорить, обыватель мат не люблю и, грубо говоря, не уважаю. Вот такая получается диалектика.
Следует сразу сказать, что, называя себя обывателем, я не имею в виду ничего дурного. Я называю себя так просто потому, что защищаю свои личные взгляды, вкусы, привычки и интересы. При этом у меня, безусловно, есть два положительных свойства, которыми, к сожалению, не всякий обыватель обладает. Во-первых, я не агрессивен (я – не воинствующий обыватель), что в данном конкретном случае означает следующее: я не стремлюсь запретить все, что мне не нравится, я просто хочу иметь возможность выражать свое отношение, в том числе и отрицательное, не имея в виду никаких дальнейших репрессий или даже просто законов. Во-вторых, я – образованный обыватель, или, если еще снизить пафос, грамотный, то есть владею литературным языком, его нормами и уважаю их. А если, наоборот, пафосу добавить, то получится, что я своего рода просвещенный обыватель.
Вообще, как любой обыватель, я больше всего ценю спокойствие и постоянство. А резких и быстрых изменений, наоборот, боюсь и не люблю. Но так уж выпало мне – жить в эпоху больших изменений. Прежде всего, конечно, меняется окружающий мир, но брюзжать по этому поводу как-то неприлично (тем более что есть и приятные изменения), а кроме того, все-таки темой книги является язык. Может ли язык оставаться неизменным, когда вокруг меняется все: общество, психология, техника, политика?
Мы тоже эскимосы
Как-то, роясь в интернете, на lenta.ru я нашел статью об эскимосах, часть которой я процитирую:
«Глобальное потепление сделало жизнь эскимосов такой богатой, что у них не хватает слов в языке, чтобы давать названия животным, переселяющимся в полярные области земного шара. В местном языке просто нет аналогов для обозначения разновидностей, которые характерны для более южных климатических поясов.
Однако вместе с потеплением флора и фауна таежной зоны смещается к северу, тайга начинает теснить тундру и эскимосам приходится теперь ломать голову, как называть лосей, малиновок, шмелей, лосося, домовых сычей и прочую живность, осваивающую заполярные области.
Как заявила в интервью агентству Reuters председатель Эскимосской Полярной конференции Шейла Уотт-Клутье (Sheila Watt-Cloutier), чья организация представляет интересы около 155 тысяч человек, «эскимосы даже не могут сейчас объяснить, что они видят в природе». Местные охотники часто встречают незнакомых животных, но затрудняются рассказать, так как не знают их названия.
В арктической части Европы вместе с распространением березовых лесов появились олени, лоси и даже домовые сычи. «Я знаю приблизительно 1200 слов для обозначения северного оленя, которых мы различаем по возрасту, полу, окрасу, форме и размеру рогов, – цитирует Reuters скотовода саами из северной Норвегии. – Однако лося у нас называют одним словом „елг“, но я всегда думал, что это мифическое существо».
Эта заметка в общем-то не нуждается ни в каком комментарии, настолько все очевидно. Все мы немного эскимосы, а может быть, даже и много. Мир вокруг нас (неважно, эскимосов или русских) изменяется. Язык, который существует в меняющемся мире и не меняется сам, перестает выполнять свою функцию. Мы не сможем говорить на нем об этом мире просто потому, что у нас не хватит слов. И не так уж важно, идет ли речь о домовых сычах, новых технологиях или новых политических и экономических реалиях.
Итак, объективно все правильно, язык должен меняться, и он меняется. Более того, запаздывание изменений приносит обывателям значительное неудобство, так, «эскимосы даже не могут сейчас объяснить, что они видят в природе». Но и очень быстрые изменения могут мешать и раздражать. Что же конкретно мешает мне и раздражает меня?
Случаи из жизни
Проще всего начать с реальных случаев, а потом уж, если получится, обобщить их и поднять на принципиальную высоту. Конечно, все эти ситуации вызывают у меня разные чувства – раздражение, смущение, недоумение. Я просто хочу привести примеры, вызвавшие у меня разной степени языковой шок, потому и запомнившиеся.
Случай первый
На одном из семинаров мы беседуем со студентами, и один вполне воспитанный юноша в ответ на какой-то вопрос произносит: «Ну, это же, как ее, блин, интродукция». Он, конечно, не имеет при этом в виду обидеть окружающих и вообще не имеет в виду ничего дурного, но я вздрагиваю. Просто я не люблю слово блин . Естественно, только в его новом употреблении как междометие, когда оно используется в качестве замены сходного по звучанию матерного слова. Точно так же я вздрогнул, когда его произнес актер Евгений Миронов при вручении ему какой-то премии (кажется, за роль князя Мышкина). Объяснить свою неприязненную реакцию я, вообще говоря, не могу. Точнее, могу только сказать, что считаю это слово вульгарным (замечу, более вульгарным, чем соответствующее матерное слово), но подтвердить свое мнение мне нечем, в словарях его нет, грамматики его никак не комментируют. Но когда это слово публично произносят воспитанные и интеллигентные люди, от неожиданности я все еще вздрагиваю.
В наше время все меняется с такой скоростью, что порой два поколения одной семьи могут перестать понимать речь друг друга. В своем тексте М.А. Кронгаз поднимает актуальную проблему изменений в русском языке.
Рассуждая над темой, автор подчеркивает, что язык, безусловно, должен меняться вместе со всем миром и успевать за любыми веяниями общества. Но скорость подобных перемен должна быть в равновесии: не слишком быстро и не слишком медленно, удовлетворяя потребности всех людей и вместе с тем давая им возможность развиваться, совершенствовать знание языка. И, конечно, при любых обстоятельствах должны сохраняться основные нормы языка. Лингвист подводит нас к тому, что и сам он не против всяческих заимствований, не против сленга и спортивных терминов, больше похожих на авторские неологизмы – это и есть развитие, но только не в том случае, когда все это превращается в «языковой хаос».
Автор считает, что изменения в языке закономерны – они идут в одну ногу с изменениями в обществе. Если этого не происходит – язык теряет свою функцию, однако эти изменения должны быть ориентированы на все слои общества и понятны каждому.
Я полностью согласна с мнением М.А. Кронгауза и тоже считаю, что язык должен быть свободным, пластичным и меняться в связи с изменениями в обществе, сохраняя при этом нормы и доступность.
Большинство русских писателей, когда-либо существовавших, уважали язык своего Отечества и восхищались его красотой и величием. Некоторые из них даже посвящали этой теме свои произведения, как, например, всем известное стихотворение в прозе И.С. Тургенева «Русский язык», в котором он восхваляет «великий, могучий, правдивый и свободный русский язык». Для Ивана Сергеевича язык и общество – два неразделимых понятия, и он искренне верит, что русский народ способен ценить и уважать свой язык и осознавать его величие, а поэтому достоин его.
А.А. Ахматова также считает, что общество и язык неразделимы, и будущее страны напрямую зависит от целостности языка. В стихотворении «Мужество» поэтесса описывает свою самоотверженную любовь к «русскому слову» и демонстрирует свою готовность бороться за чистоту и правильность русской речи, «великого русского слова», ведь она понимает, что от её отношения к языку родины зависит его будущее.
Таким образом, можно сделать вывод, что русский язык способен к видоизменениям, он должен меняться одновременно с обществом. Однако потенциал русского языка истощим, поэтому важно заботиться о его распространении и обогащении, тем самым сохраняя его свободность, целостность и нормированность для будущих поколений.
Максим Анисимович Кронгауз (родился в 1958) - доктор филологических наук, автор многочисленных публикаций. В своей статье отражает проблему изменений русского языка.
Максим Анисимович пишет, «Я, в принципе, не против сленга». В своем предложении автор говорит о том, что он пойдет навстречу новому поколению, употребляющему новые слова. Только условие автора таково, что он просит, Нас, соблюдать некоторые нормы языка.
Доктор повествует, «Язык должен меняться, и он меняется». Писатель говорит о необходимости новых изменений и улучшений в родном языке, которые, может быть, приведут нас к чему-то необыкновенному и красивому!
Кронгауз говорит, «Не люблю, когда я не понимаю слов в тексте или в чей-то речи». Доктор говорит о том, что слова до того изменились, что порой людям очень тяжело понять их и разобрать.
Я согласна с писателем. Действительно, язык должен быть всегда простым и понятным для всех народов мира.
Во-первых, давайте вспомним стихотворение Михаила Крюкова «Стих о Русском языке». Автор описывает свою любовь и преданность родному языку. Мы видим с каким теплом и трепетом автор относиться к остальным языкам мира. Как он нежно и ласково говорит о них.
Во- вторых, в настоящее время почти все люди сквернословят. Это усугубляет наш Великий Русский язык. Почти вся молодежь использует эти слова, употребляя их в речь при разговоре с другом или подругой.
Таким образом, я хочу сделать вывод. Изменения в русском языке, употребление сквернословия все это вредит языку. И в скором времени он измениться совсем координально.