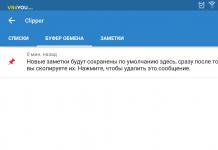В центре иконы "Коронование Пресвятой Богородицы" изображена коленопреклоненная Дева Мария. Она стоит на облаках, опираясь на полумесяц - символ Церкви, облаченная в тунику и мафорий с белым платом на голове, сложив руки на груди в жесте сердечной молитвы. Справа и слева от Нее находятся Иисус Христос в красной <багрянице> с крестом и Господь Саваоф, опирающийся на сферу, символизирующую вселенную. Они возлагают на голову Девы Марии золотую корону, как символ Царицы Небесной. В вышине над Ними парит Святой Дух в виде голубя. Икона выполнена хорошим мастером на доске из липы, скрепленной двумя врезными шпонками, в технике масляной живописи в стиле украинского барокко. Композиция построена по вертикали. Фигуры находятся в активном движении. Поля украшены позолоченным рокайльным орнаментом и цветами. Пышные складки одежд прописаны твореным серебром. Сюжет иконы непосредственно связан с праздником Успения Пресвятой Богородицы, который в честь и память Ее с древнейших времен установлен Церковью на 15 августа. Это великий, двунадесятый и вселенский праздник, ибо в этот день Спаситель всех во всей славе Своей встретил и вселил Матерь Свою с Собою.
Данная композиция появилась в русской иконописи в конце XVII века. Образцами послужили гравированные иллюстрации старопечатных богослужебных книг украинских изданий, таких как: "Ключ разумения" Иоаникия Галятовского 1659 г. (Киев), Требник 1682 г. (Львов, первое изд. 1668 г.), <Октоих>, 1682 г. (Чернигов), и многих других. Наиболее распространенными такие иконы были на Украине в XVIII-начале XIX веках. Одним из ранних на русской почве можно считать <Коронование> в среднике иконы <Успение Богоматери> 1694 г. Кирилла Уланова из церкви Покрова в Филях (Москва). В более позднее время <Коронование Богоматери> предстает уже как самостоятельная композиция. В западной традиции древнейшие изображения на этот сюжет относятся к концу XIII в. и часто входят в алтарные композиции и резную декорацию фасадов храмов, либо являются частью композиции <Успение Богоматери>, так как считается, что Коронование произошло на небесах сразу после Успения. В западной католической церкви существует обряд коронования папой римским наиболее чтимых чудотворных богородичных икон.
Иконография Коронования Богоматери сложилась в искусстве католической Европы XIII века.
В русском искусстве изображения Коронования Богоматери появились в последней четверти XVII столетия.
На публикуемой иконе изображена Святая Троица - Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой в виде голубя. Богоматерь стоит на коленях перед Отцом и Сыном, которые возлагают на нее царский венец. Таким образом, Богоматерь прославляется как Царица Небесная. Под ее ногами изображен лунный серп. Эта деталь соответствует образу из Апокалипсиса: <И явилось на небе великое знамение - жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд>.
Данный образ создан иконописцем Риммой Вьюговой.
Третья четверть XVII века. Великий Устюг. Волков Козьма (?)
21,3 × 17,1 × 1,9. Дерево (кипарис?), доска цельная, без ковчега, две торцовые врезные шпонки, паволока не просматривается, левкас, темпера.
Происхождение не установлено. Приобретена в 2007 г. в Serafim Dritsoulas Gallery в Мюнхене (Германия). Инв.№ ЧМ-224.
Раскрыта до поступления в музей, скорее всего, за рубежом. Во время этой реставрации удалена потемневшая олифа, вставки нового левкаса с живописью в верхней части средника между головами Христа и Саваофа, в нижних углах иконы с заходом на надписи, кое-где лежащие на поновленном слое, совсем незначительная чинка на ноге Христа. Тогда же частично восстановлены золотые лучи сияний и буквы надписи (русский шрифт и авторская подпись).
Сюжет и композиция иконы восходят к западноевропейской средневековой традиции литургического почитания события Коронования Богоматери, которое, согласно католическому богословию, последовало сразу вслед за Успением и Вознесением Марии на небеса. Возложение короны на главу Богородицы всеми Лицами Новозаветной Троицы подчеркивало приснодевство невесты Христовой, царственное величие Девы, изображало небесное прославление Богородицы, завершившее ее земной путь. Символическая сцена истолковывалась как зримый образ окончательного исполнения Божественного замысла о спасении человека, тем более что в иконографию вводились атрибуты Новозаветной Троицы – большой крест и кроваво-красная риза, символы искупительного подвига Бога-Сына, скипетр и держава, символизирующие всевластие Бога Отца.
Иконография Коронования Богоматери сложилась во французском готическом искусстве XIII в. (в миниатюре, резьбе порталов, витражах, апсидных композициях) на основе текста, приведенного в сочинении Якопо да Вораджине (1230–1298) «Золотая легенда». Во второй половине – конце XVII в. через гравюры и книжные иллюстрации сюжет становится известным на Руси. Наиболее вероятным источником композиции была старопечатная украинская иллюстрированная книга, например «Ключ разумения» Иоанникия Галятовского, изданного в Киеве в 1659 г., Требник 1682 г. (Львов, первое издание 1668 г.), Октоих (Чернигов, 1682 г.) и др. В иконописи изображение Коронования, сопровождающее и венчающее сцену Успения Богоматери, впервые появилось в последней четверти XVII в. в среде мастеров Оружейной палаты – Кирилла Уланова и Тихона Филатьева. Самостоятельные иконные произведения, в том числе и большие храмовые, известны лишь со второй четверти – середины XVIII в. С этого времени иконография получила распространение в памятниках личного благочестия – в небольших заказных моленных образах, подобно иконам третьей четверти XVIII в. из ЦМиАР, 1764 г. великоустюжского мастера Егора Шергина (ЯХМ) или столь же небольшой по размерам иконе того же времени из собрания А.И. Палийчука; к концу столетия относится еще одна в серебряном окладе (ГРМ). Рассматриваемое произведение продолжает этот ряд. Причем, сопровождающая западный сюжет латинская надпись красноречиво свидетельствует о бытовании иконы в образованной столичной среде, соединявшей представителей разных конфессий. В пользу столичного происхождения памятника говорят высокопрофессиональное исполнение живописи, барочная стилистика и особенности иконографии иконы.
Своеобразием образа, отличающим его от известных и иконографически очень близких примеров, является передача достаточно глубокого художественного пространства, в котором группа фигур Богородицы, Христа и Бога-Отца, а также херувимов, представлена в сложных «барочных» ракурсах. В отличие от других икон этого сюжета, Бог-Отец изображен не симметрично Христу, а восседающим вверху, над остальными фигурами; парящий в небесах и поддерживаемый херувимами, а не самим Иисусом, огромный крест передан в подчеркнуто перспективном измерении. Уникален жест одного из херувимов, целующего стопу Спасителя. Золотой серп луны под ногами Богородицы, известный по целому ряду икон этого сюжета, и золотой скипетр в ее руках можно истолковывать как атрибуты Апокалипсической жены, «облеченной в солнце, под ногами ее луна, и на голове венец из двенадцати звезд… и родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным…» (Отк.12:1–5). Примечательно, что самостоятельная и тоже западная иконография «Жены облеченной в солнце», имеющая сходное символическое значение, была заимствована русской иконописью в эту же эпоху – в последней четверти XVII в. Существует предположение, отчасти подтверждаемое датировкой икон «Коронование Богоматери» 30-ми и 60-ми гг. XVIII в., будто распространение западной иконографии было вызвано необходимостью «небесного» обоснования коронации на российском престоле императриц, нарушившей традиционные законы престолонаследия. Однако более вероятно, что сюжет ассоциировался с коронацией иконописных образов Богоматери, увенчания их драгоценными коронами. Этот обряд, установленный в Римской Церкви, в начале XVIII в. перешел в Польшу и оказал большое влияние на формирование многих типов богородичных икон включающих эту деталь.
Имя мастера и год вызывают сомнения в своей подлинности. Однако следует заметить, что именно 1782 г. датируется подписная икона «Жена, облеченная в солнце» мастера Козьмы Волкова, выполнившего иконостас Варваринской церкви города Устюга Великого8. Несмотря на заметную стилистическую разницу в исполнении этих двух произведений, можно найти сходство в приемах личного письма и глубине пространственных построений. Проставленная на иконе дата вполне соответствует времени ее написания. Примечательно, что с творчеством великоустюжских иконописцев связывается несколько икон, написанных на сюжет «Коронование Богоматери». Не исключена возможность, что и имя мастера, и дата были повторены реставратором при поновлении живописи нижнего поля.
Коронование Девы Марии Царицей Небесной от Самого Бога согласно доктрине римокатолической церкви является одним из эпизодов, входящих в цикл Вознесения Богоматери , и последним эпизодом её жития.
Само Вознесение Девы Марии, как правило, подразделяется на четыре стадии:
- Успение - Богоматерь на смертном одре, в окружении апостолов-свидетелей
- погребение (изображается редко)
- собственно Вознесение
- Коронация вознесенной Девы, которая произошла сразу после Вознесения
Коронование Девы Марии отмечается 22 августа (католич.). В православии есть только праздник Успения Богородицы .
Благословенная матерь Божия после своей кончины и Вознесения, разумеется, была достойна принять «царство благолепия и венец доброты от руки Господней» и стать одесную Бога в славе царской, как о том говорили пророки. Именно после коронации Мария может называться Царицей Небесной. Теперь на небесах Богоматерь предстоит по правую руку от Бога и Сына Своего, ходатайствуя пред ним за грешников.
«Избрание Её для воплощения Сына Божия совершилось от всех лиц Святой Троицы - от Отца, Сына и Святого Духа. И венчание Её на царство совершилось от всех лиц Святой Троицы: Бог Отец венчал Её как Свою Дщерь, Бог Сын венчал Её как Свою Матерь, Святой Дух венчал Её как Свою Невесту».
Возникновение и источники
Никакой из католических догматов и ни единая строка в Священном Писании не говорят ничего о том, что Мария после вознесения на небеса была коронована. Тем не менее, несмотря на отсутствие подкрепления утверждёнными церковью догматами, эта тема в религиозном искусстве была очень популярна.
Эта традиция известна с XII века, причём своим возникновением она даже не обязана «Золотой легенде » - она либо развилась из текста, приписываемого епископу Melito of Sardis, либо из пламенных писаний, описывающих телесное вознесение Богоматери на небо, в особенности «De gloria martyrum» Григория Турского (VI в.) и наставления, ошибочно приписываемого Святому Иерониму (Псевдо-Иероним) . В последнем Мария входит в рай как царица во славе, и небесное воинство ведет её к трону. Изначально этот образ опирается на Псалтырь («…стала царица одесную Тебя в Офирском золоте…») и Песнь Песней 4:8, которые истолковываются как «приди, избранная, к моему трону» (Veni electa mea…in thronum meum ) , а также на видении Иоанна Богослова : «…явилось на небе великое знамение: жена, облечённая в солнце ; под ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд» (Откр. ), которая истолковывается как Богоматерь, ставшая царицей. Песнь Песней как детальную аллегорию, в которой невеста отождествлялась с Девой Марией, истолковал Бернард Клервоский . Предтечей коронованию Богородицы послужил и следующий эпизод из жизни Соломона : после смерти Давида царем Израиля становится Соломон, и Вирсавия , мать Соломона, приходит к нему и просит у него покровительства. «Царь встал перед нею, и поклонился ей, и сел на престоле своем. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его» (3 Царств 2:19) .
В искусстве
Самое раннее известное произведение искусства данной иконографии (первого типа) - скульптура в верхнем регистре тимпана Собора Сенли (ок. ), в нижнем регистре которого высечены Успение и Вознесение. Эта композиция повторяется почти полностью в тимпане Шартрского собора ( -) , напрашиваясь на сравнение с мозаикой «Maria Ecclesia» в Санта-Мария-ин-Трастевере . Правда, строго говоря, эти два тимпана ещё нельзя назвать изображениями «Коронации Богоматери» , поскольку Мария на них уже с короной, надетой на голову. Зато тимпан Нотр-Дам де Пари уже отвечает этому требованию: ангел, спускаясь с небес, увенчивает Богоматерь венцом. Та же самая композиция появляется в резьбе по слоновой кости этого же времени.
Наконец, в XIII в. мы находим фреску в Англии (Black Bourton), где заметно приближение к классическому типу: Бог-сын приподнимает свою правую руку, чтобы короновать мать. Подобная иконография «лицом к лицу» была подхвачена многочисленными мастерами XIV и XV вв., часто с фланкирующими ангелами по бокам. С распространением «Золотой легенды » сюжет становится всё более популярным. Растущую популярность этой темы в искусстве Эпохи Ренессанса исследователи связывают с развитием самосознания и восприятием личности, индивидуальности, свойственным этому периоду, что выражалось в моде на «триумфальность», «славословие», «чествование личности» применительно ко многим сюжетам.
Произведения на данный сюжет писало бесчисленное количество западноевропейских мастеров, включая
☦ "ЗВОНКИ" С ТОГО СВЕТА" ☦ ☦ ☦ Коля Болотов работал ди-джеем на музыкальной радиостанции, и все его знали как ди-джея Болта. Он крутил модную музыку, зачитывал сводку погоды, поздравлял именинников, и в сумке у него всегда была пара-тройка дисков, которых не было ни у кого в городе. При том, что работа не приносила много денег, друганы уважали Болта и любили слушать его программы. Еще Коля очень любил рыбалку. Она чем-то напоминала работу ди-джея. На радиостанции он сидел в студии в полутемном одиночестве и смотрел на мигание аппаратуры. Странно, но его профессия, приносящая в мир так много шума и суеты, была на редкость тиха и несуетлива. И на рыбалке он любил тишину и одиночество, мерцание воды в лучах солнца, мерное колебание поплавка. Однажды в воскресенье он взял с собой младшего брата Никитку и соседского мальчика Серегу, и они отправились на берег городской реки. Мальчики шумели по дороге, радуясь утреннему солнцу, пустынным улицам, встречным котам и собакам. Рыбачить они шли к мосту, нужно было только спуститься с высокого берега. У воды они перестали веселиться, каждый уселся со своей удочкой. Первым зазвонила закидушка Сергея, и с помощью Николая он вытащил на берег трепещущую рыбку – налима. Ребятишки присели около рыбки, облепленной песком, и внимательно смотрели, как двигаются ее жабры. Вдруг Сергей начал плакать. Потом завсхлипывал и Никита. Николай стал их успокаивать: – Да вы что? Что случилось-то? Утирая слезы, Никита сказал, что им стало очень жалко эту беспомощную и жалкую рыбку: – Коля, она умрет, да? – Так мы и пришли сюда для этого – рыбу ловить, – недоумевал Николай. – Да что с вами, успокойтесь. После этого малыши еще какое-то время сидели хмурые, но вскоре солнышко стало припекать, они успокоились, стали разжигать костерок. К полудню стало совсем тепло, холодное августовское утро переходило в жаркий день. Вдруг раздался удар, словно бы взорвали небольшую гранату. Николай вскочил и огляделся. На мосту послышались крики. Он вгляделся в воду – на поверхности посередине реки между расходящихся во все стороны волн торчала чья-то голова. – Бросился! Человек с моста бросился! – кричали на мосту. Николай побежал к воде. Скидывая одежду, он оборотился к ребятам: – Никита, Сергей, сидите здесь, никуда не уходите… Бросился в воду и, лишь проплыв несколько метров, понял, какая холодная вода – стоял уже конец августа. Привычными движениями он быстро резал воду, но река была широкая, а холод сводил ноги. – Давай, парень, давай, – кричали ему с моста, – плыви скорее, пока мужик еще не утоп! Коля приподнял голову. Бросившийся с моста человек покачивался на волнах, как кусок бревна, опустив голову в воду. На поверхности его держал только пузырь воздуха, собравшийся на его спине под болоньевой курткой. "Да жив ли он? – мелькнуло у Коли в голове. – Наверное, самоубийца. Ничего, его еще можно реанимировать". Но чем ближе он подплывал к покачивающемуся на волнах человеку, тем все более и более его обступал страх, страх глубокий и невесомый, черный и таинственный. Вдруг пузырь воздуха бесшумно выскользнул из-под куртки самоубийцы, и тело его ушло под воду. Коля, находившийся метрах в четырех от тела, нырнул. В мутной речной воде почти ничего не было видно, он хватал руками воду, растопыривая пальцы, пытаясь поймать уходящее на дно тело, но чувствовал, как холод и тьма все больше и больше окутывают его. Страх, до этого таившийся в его душе, вырвался наружу, ему стало жутко. Почувствовав, что больше не может быть под водой, Николай вынырнул. Он тяжело дышал. – Ныряй, ныряй скорее, – кричали ему с моста, – ныряй, а то на дно уйдет! Николай снова нырнул и снова с растопыренными пальцами стал хватать речную тьму, погружаясь все глубже и глубже. Ему становилось все страшнее и страшнее, его сковал леденящий ужас. Вдруг он отчетливо понял, что если не вынырнет сейчас, то навсегда останется здесь, вместе с человеком, который таким странным образом свел счеты с жизнью, бросившись с моста Влюбленных в это августовское утро. Он вынырнул и, уже не слушая крики собравшейся на мосту толпы, поплыл к берегу. Когда вышел на песок, тело его горело от холода, а ноги сводило судорогой. Никитка и Серега хохотали во все горло. Просто заливались веселым звонким смехом. – Вы… вы чего? – трясущимся от холода голосом спросил их Коля. – Вы чего ржете-то? – Колька, ты видел, как мужик с моста спрыгнул? Вот здорово-то! Об воду с такой высоты драбалызнулся! Только брызги со всех сторон! Вот здорово-то! – хохотали до слез малыши. – Бу-бух, быдищ! – Да вы что? Это же живой человек! Вы что, не понимаете? Ведь он умер! Чего здесь смешного? – закричал на них Колька. – Рыбку вам жалко, плачете оба, а когда человек помирает – это вам смешно? Ребята присмирели и перестали смеяться. Когда Коля согрелся, они смотали удочки и пошли домой. Вечером приезжала милиция, записали Колины показания, сказали, что будут искать утопшего и выяснять причину самоубийства. Но в душе у Николая что-то надломилось. Ужас, тот ужас, которого он не знал до этого, глубоко его поранил. Он не мог, как раньше, беспечно радоваться и стал как-то замкнут. В конце следующей недели решил пойти в церковь. Его сосед по дому, отец Владимир, хорошо знал родителей Коли, поэтому встретил его как родного: – Ну что у тебя, дорогой, рассказывай. Коля долго и невнятно говорил о происшествии на рыбалке, а потом спросил: – Почему, батюшка, почему мне было ТАК страшно? – А потому, что душу самоубийцы обстоят бесы, обстоят и принимают в адские объятия. Они довели его до смерти своим лукавством. И он наложил руки на то, что не создавал, – на самого себя. Ты, Коля, не в воду погружался, а в ужас этой погибели. И хорошо, что ты не коснулся его. В последний момент, оставаясь еще хоть чуть-чуть живым, он бы схватил тебя хваткой последней надежды, стальной хваткой мертвеца и утянул с собой. Вот отсюда ужас, который ты испытал. Но Бог тебя хранил. Коля немного успокоился после исповеди и стал по воскресеньям ходить на службу. Он стал совсем по-другому смотреть на мир Божий. Он вдруг услышал, что многие его любимые рок-музыканты поют о Боге, что они верят в Бога. Он по-другому стал относиться и к своей работе, и к людям. И случай еще более укрепил его в этом. Однажды во время вечернего дежурства на радиостанции ему позвонили. Он поднял трубку. На той стороне приятный девичий голос заказывал поставить в эфир песню "Into your arms, o Lord" австралийского певца Ника Кейва. Коля спросил девушку, что он должен сказать к песне, чему она должна быть посвящена. Девушка помолчала немного, а потом сказала: – Это мой реквием, я послушаю эту песню, а потом умру. – То есть как умрете? – А так. Это мой последний день. Видите ли, я родилась инвалидом. С рождения у меня не действуют ноги, и всю свою жизнь я провела в инвалидной коляске. Отец после моего рождения оставил нашу семью. Мы живем с мамой. Мне уже семнадцать лет. И все эти семнадцать лет я сижу на кресле-каталке у окна в небольшой однокомнатной квартире. Я сижу у окна и смотрю, как по улице ИДУТ люди. Я вижу молоденьких девчонок, которые бегают на танцы и на свидания. Больше всего на свете я бы хотела ходить и бегать. Но я НИКОГДА не смогу этого сделать. Я устала. Все уже решено, и не надо меня отговаривать. Я приготовила таблетки. Мама ушла на ночную смену. Я одна. Ничто меня не остановит. Все уже готово. Я буду жить, пока звучит эта песня по радио. Голос ее, спокойный, мягкий, слова произносил четко и решительно, без всякого надрыва. – Что я могу сказать вам? У вас действительно беда, – сказал Коля, – у меня вряд ли найдутся слова для вас. Вы не поверите, но я даже знаю тот ужас, который обстоит вашу душу. Они помолчали. Впервые в жизни Коля всем своим существом почувствовал, как в нем рождаются слова, красивые и глубокие, наполненные состоянием, противоположным чувству ужаса. Эти слова произнеслись в нем и отозвались миром и тишиной: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги мне и рабе сей. Избави ее от бесовского обстояния и спаси ее душу. Помоги мне. Аминь". И он вдруг сказал в трубку девушке: – Хорошо, я поставлю вам эту музыку, даже приговоренный к казни имеет право на последнее желание. Наверное, бесполезно вас в чем-то убеждать, поэтому я тоже попрошу вас об одной услуге. Сейчас, пока будет звучать песня, пожалуйста, обещайте мне подумать вот о чем. Да, то, что с вами произошло, – это настоящая беда. Но подумайте, Господь для чего-то создал вас, Он дал вам нечто, чего нет ни у кого. Он сделал вас уникальной, другой такой никогда не было и не будет на земле, и вы для чего-то нужны Ему. Для чего-то, о чем не знает никто, кроме вас. Просто подумайте об этом. Подумайте, пока звучит музыка. Она сказала: – Хорошо, я подумаю. И повесила трубку. Николай поставил песню. "Четыре минуты четырнадцать секунд, – заметил он про себя. – Четыре минуты четырнадцать секунд осталось кому-то жить". И ему снова стало страшно. Он не мог выходить в эфир и говорить о погоде или поздравлять именинников. Он молчал, потому что страх снова сжимал его сердце. Через двадцать минут она позвонила. Она просто сказала: – Вы правы. Жить есть для чего. Спасибо вам. И положила трубку. Через две недели ему передали подарок – диск его любимой ирландской музыки. Он выскочил на улицу, чтобы узнать, кто передал диск, но увидел, как от крыльца отъезжает машина, а на заднем сиденье сидит маленькая девушка, которая держится за костыли и приветливо улыбается ему. Он стал разыскивать ее. И нашел. Когда он зашел в ее небольшую комнату, то увидел, что пол вокруг кресла-каталки был завален по самую ступицу листами с рисунками. Оказалось, что без всякого специального образования она – талантливый рисовальщик. Мать, уходя на работу, оставляла ей целую пачку бумаги, и она рисовала, рисовала. Выработала у себя уникальную способность, лишь однажды увидев человека, рисовать его в любых проекциях. Разглядывая рисунки, Николай улыбался: – И ты все ЭТО хотела уничтожить? Ну, ты даешь… Через год у нее прошла первая выставка. О ней писали как об открытии десятилетия. Сейчас она уже объездила весь мир со своими выставками. Иностранные журналисты все время спрашивают ее о небольшой иконке Воскресения Христова, которую она никогда не выпускает из рук. Это подарок Коли. ☦ ☦ ☦