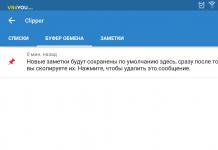Classics Press publishes nonfiction and literature in modern, accessible editions at reasonable prices.
The Collection - Seven Classics
The is a new edition of seven classic works of political and military science . Each of the included classical works are available individually as well as together in the collection.
All of these classics are already available in English editions, but nearly always a format that is difficult to read and understand. Most of these are in English translations that are very old, or miss out on the fundamental insights. Many include a lot of excess commentary which is mostly unnecessary and unhelpful.
Our editing process reduces the repetition and unnecessary commentary and cruft, and clarify what is essential and insightful in the works using modern English prose. This process is an abridgement:
[C]ondensing or reduction of a book or other creative work into a shorter form while maintaining the unity of the source.
The goal of this project is to produce a collection of works with clear and modern English that showcases the timeless insights which these classics have within them. We also want to provide several different formats for these works, including:
- Ebook
- Paperback
- Audiobook
The Collection - Individual Titles
| Volume | Title | Status |
|---|---|---|
| Vol. 1 | The Art of War by Sun Tzu | published |
| Vol. 2 | The Analects by Confucius | published |
| Vol. 3 | The Arthashastra by Chanakya (Kautilya) | published |
| Vol. 4 | The Meditations by Marcus Aurelius | published |
| Vol. 5 | The Prince by Niccolo Machiavelli | April 2019 |
| Vol. 6 | The Book of Five Rings by Miyamoto Musashi | April 2019 |
| Vol. 7 | The Hagakure by Yamamoto Tsunetomo | April 2019 |
This is an international collection, with two books from China, one from India, two from Europe, and two from Japan. The books also span over 2,000 years of history. Some of these books are focused on war and military science (Art of War, Book of Five Rings, Hagakure), others are more self-reflective and develop an ethical philosophy (Analects, Meditations), and others still are focused more on politics and ruling (Arthashastra, The Prince).
Each of these works provides a unique and historical perspective regarding these topics, and they complement each other in tracing deep insight into the nature of leadership, war, and politics.
Affordable Pricing
Classics Press is committed to making classic works more accessible, and that includes reasonable pricing. Individual works are priced at $ 2.99 USD for ebooks and $ 7.99 USD for print books (which includes the same work as a free Kindle ebook). The entire collection Seven Classics on War and Politics is priced at $ 9.99 USD for the ebook and $ 24.99 USD for the paperback book (which includes a free kindle ebook). The price is inclusive of VAT.
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются глазища
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.
Как подкову, дарит за указом указ –
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз
Что ни казнь у него – то малина
И широкая грудь осетина.
Ноябрь 1933
Осип Мандельштам. Мы живем, под собою не чуя страны... Читает Анатолий Белый
Известны варианты начала строки 11 этого стихотворение: «Кто пищит » и строк 3 – 4:
Только слышно кремлевского горца,
Душегубца и мужикоборца.
Э. Г. Герштейн приводит вариант строки 5: «У него во дворе и собаки жирны » и сообщает о том, что Мандельштам был недоволен последними двумя строчками (Герштейн, с. 79 – 80). Основной вариант (приводимый выше) передаётся по автографу, записанному Мандельштамом в НКВД во время допроса (получен в январе 1989 г. Комиссией по литературному наследию Мандельштама при Союзе писателей СССР из КГБ СССР).
Это стихотворение послужило главным обвинительным материалом в «деле» Мандельштама после его ареста в ночь 13/14 мая 1934 г. До этого автор прочел это стихотворение по меньшей мере полутора десяткам людей. Как правило, первые слушатели этого стихотворения приходили в ужас (С. Липкин передаёт, например, реакцию Г. А. Шенгели: «Мне здесь ничего не читали, я ничего не слышал...»).
Его толстые пальцы, как черви, жирны… – Возможно, Мандельштаму было известно о том, то
Вчера в одном дружественном блоге прочла, что 27 декабря 1938 года - день смерти Осипа Мандельштама. Минуло 70 лет... Не могла пройти мимо этой горькой годовщины. Один из моих любимых поэтов...
За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых кровей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе,
Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей,
И меня только равный убьет.
Родился будущий поэт в 1891 году в Варшаве, но с 1897 года жил в Питере. Там, в 1910 году, и состоялся его литературный дебют. Он увлекался символизмом, акмеизмом. Писал стихи, публиковал статьи на литературные темы. С 1918 года жил то в Москве, то в Петербурге, то в Тифлисе. Николай Чуковский писал: "...у него никогда не было не только никакого имущества, но и постоянной оседлости - он вел бродячий образ жизни, ...я понял самую разительную его черту - безбытность. Это был человек, не создававший вокруг себя никакого быта и живущий вне всякого уклада". В 20-е годы Мандельштам опубликовал поэтические сборники, много занимался переводами. Он в совершенстве владел французским, немецким и английским языками. Когда в 1930-е годы началась открытая травля поэта и печататься становилось все труднее, перевод оставался той отдушиной, где он мог сохранить себя.
Осенью 1933 года Мандельштам пишет стихотворение "Мы живем, под собою не чуя страны...", за которое в мае 1934 был арестован.
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются глазища
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.
Как подкову, дарит за указом указ -
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него - то малина
И широкая грудь осетина.
Ноябрь 1933
Только защита Бухарина смягчила приговор - выслали в Чердынь-на-Каме, где поэт пробыл две недели, заболел, попал в больницу. Был отправлен в Воронеж, где работал в газетах и журналах, на радио. После окончания срока ссылки жил в Калинине. Потом опять арест. Приговор - 5 лет лагерей за контрреволюционную деятельность. Этапом был отправлен на Дальний Восток. В пересыльном лагере на Второй речке (теперь в черте Владивостока) 27 декабря 1938 Осип Мандельштам умер в больничном бараке.
В.Шкловский писал о Мандельштаме: "Это был человек... странный... трудный... трогательный... и гениальный!"
Прекрасно написал об аресте поэте Александр Галич...
"...в квартире, где он жил, находились он, Надежда Яковлевна (жена) и Анна Андреевна Ахматова, которая приехала его навестить из Ленинграда. И вот они сидели все вместе, пока длился обыск, до утра, и пока шел этот обыск, за стеною, тоже до утра, у соседа их, Кирсанова, ничего не знавшего об обыске, запускали пластинки с модной в ту пору гавайской гитарой..."
"И только и света,
Что в звездной, колючей неправде,
А жизнь промелькнет
Театрального капора пеной,
И некому молвить
Из табора улицы темной..."
Мандельштам
Всю ночь за стеной ворковала гитара,
Сосед-прощелыга крутил юбилей,
А два понятых, словно два санитара,
Зевая, томились у черных дверей.
И жирные пальцы, с неспешной заботой,
Кромешной своей занимались работой,
И две королевы глядели в молчании,
Как пальцы копались в бумажном мочале,
Как жирно листали за книжкою книжку,
А сам-то король -- все бочком, да вприпрыжку,
Чтоб взглядом не выдать -- не та ли страница,
Чтоб рядом не видеть безглазые лица!
А пальцы искали крамолу, крамолу...
А там, за стеной все гоняли "Рамону":
"Рамона, какой простор вокруг, взгляни,
Рамона, и в целом мире мы одни".
"...А жизнь промелькнет
Театрального капора пеной..."
И глядя, как пальцы шуруют в обивке,
Вольно ж тебе было, он думал, вольно!
Глотай своего якобинства опивки!
Не уксус еще, но уже не вино.
Щелкунчик-скворец, простофиля-Емеля,
Зачем ты ввязался в чужое похмелье?!
На что ты истратил свои золотые?!
И скушно следили за ним понятые...
А две королевы бездарно курили
И тоже казнили себя и корили --
За лень, за небрежный кивок на вокзале,
За все, что ему второпях не сказали...
А пальцы копались, и рвалась бумага...
И пел за стеной тенорок-бедолага:
"Рамона, моя любовь, мои мечты,
Рамона, везде и всюду только ты..."
"...И только и света,
Что в звездной, колючей неправде..."
По улице черной, за вороном черным,
За этой каретой, где окна крестом,
Я буду метаться в дозоре почетном,
Пока, обессилев, не рухну пластом!
Но слово останется, слово осталось!
Не к слову, а к сердцу подходит усталость,
И хочешь, не хочешь --- слезай с карусели,
И хочешь, не хочешь -- конец одиссеи!
Но нас не помчат паруса на Итаку:
В наш век на Итаку везут по этапу,
Везут Одиссея в телячьем вагоне,
Где только и счастья, что нету погони!
Где, выпив "ханжи", на потеху вагону,
Блатарь-одессит распевает "Рамону":
"Рамона, ты слышишь ветра нежный зов,
Рамона, ведь это песнь любви без слов..."
"...И некому, некому,
Некому молвить
Из табора улицы темной..."
В то время большинство советских писателей восхваляли до небес правителя СССР.
В такой период времени рукой Осипа Мандельштама создаётся очень смелое стихотворение, которое он написал, после того, как Осип Эмильевич стал очевидцем страшного крымского голода.
Мы живём, под собою не чуя страны..
Мы живём, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, дарит за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него - то малина,
И широкая грудь осетина.
Осип Мандельштам. Ноябрь, 1933.
Значение слов в стихотворении:
Горец - Сталин.
Малина - слово на преступном жаргоне в память того, что Сталин в молодости был частью преступного мира, когда носил псевдоним «Коба».
Осетин - Сталин. Сталин был родом из города Гори вблизи Южной Осетии.
Стихотворение было записано и второй раз, но только рукой оперуполномоченного 4 Отделения Секретно-Политического Отдела ОГПУ Н.Х. Шиварова, который в тюрьме допрашивал поэта.
Мандельштам и Пастернак:
"Как-то, гуляя по улицам, забрели они на какую-то безлюдную окраину города в районе Тверских-Ямских, звуковым фоном запомнился Пастернаку скрип ломовых извозчичьих телег. Здесь Мандельштам прочёл ему про кремлёвского горца. Выслушав, Пастернак сказал: «То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, который я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому»."

Авторства своего Осип Мандельштам не скрывал и после ареста готовился к расстрелу. Автора отправили в ссылку в Чердынь, а потом разрешили поселиться в Воронеже. В ночь с 1 на 2 мая 1938 года он был арестован вновь и отправлен в лагерь Дальлаг , скончался по пути в декабре в пересыльном лагере Владперпункт , а тело Мандельштама советская власть оставила лежать непогребённым до весны.

Поэзия Мандельштама в материалах дела называется "контрреволюционным пасквилем против вождя коммунистической партии и советской страны", являлось основным пунктом обвинения, Мандельштам был осуждён по статье 58.10

Экземпляр стихотворения, записанный в тюрьме рукой Осипа Мандельштама, хранился в архивах КГБ СССР до весны 1989 года. В связи с перестройкой автограф был передан в Комиссию Союза писателей СССР по литературному наследию Осипа Мандельштама. В апреле 1989 председатель комиссии Роберт Рождественский отдал документ в РГАЛИ, протокол допроса Мандельштама оперуполномоченным Шиваровым сейчас хранится в Центральном архиве ФСБ РФ, в составе Следственного дела Р-33487.
Судьба Мандельштама - едва ли не самая драматическая в русской литературе советского периода. Не потому, что ему выпал жребий более ужасный, чем многим другим его собратьям. Трагическая развязка его судьбы была такой же, как у Бабеля, Пильняка, Артема Веселого, Ивана Катаева, - всех не перечислишь. Отличается от них Мандельштам тем, что был он, пожалуй, из них всех самым независимым, самым нетерпимым. "Нетерпимости у О. М. хватило бы на десяток писателей", - замечает в своих воспоминаниях вдова поэта Надежда Яковлевна Мандельштам . Нетерпимость была не просто свойством его души. Она была его священным принципом, его девизом: Чем была матушка-филология, и чем стала? Была вся кровь, вся нетерпимость, а стала пся кровь, все-терпимость. (Четвертая проза.) В той же "Четвертой прозе" он высказался на эту тему еще резче, еще исступленнее:
Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые - это мразь, вторые - ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю."
Этим писателям я запретил бы вступать в брак и иметь детей. Как могут они иметь детей? - ведь дети должны за нас продолжать, за нас главнейшее досказать - в то время как их отцы запроданы рябому черту на три поколения вперед. "Рябой черт" - это о Сталине. В разговорах - только вдвоем, с глазу на глаз, шепотом, - такое, может быть, еще можно было услышать. Но прочесть!.. Не могу назвать ни одного из его собратьев по перу, кто отважился бы написать нечто подобное. Но одной этой яростной репликой Мандельштам не ограничился.
В ноябре 1933 года он написал небольшое стихотворение, в котором свое отношение к "рябому черту" выразил еще более ясно и недвусмысленно:
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца, -
Там помянут кремлевского горца
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны.
Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.
А вокруг его сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто мяучит, кто плачет, кто хнычет,
Лишь один он бабачит и тычет.
Как подковы кует за указом указ -
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него, - то малина.
И широкая грудь осетина. Некоторые современники (из тех немногих, кому это стихотворение тогда стало известно) отзывались о нем пренебрежительно. Они отвергли его именно из- за его лобовой резкости и прямоты:
Эренбург не признавал стихов о Сталине. Он называл их "стишками". Илья Григорьевич справедливо считает их одноплановыми и лобовыми, случайными в творчестве О. М. (Надежда Мандельштам. Воспоминания.) Еще резче выразился Б.Л. Пастернак . Выслушав стихотворение из уст автора, он просто отказался обсуждать его достоинства и недостатки: Как- то, гуляя по улицам, забрели они на какую-то безлюдную окраину города в районе Тверских Ямских, звуковым фоном запомнился Пастернаку скрип ломовых извозчичьих телег. Здесь Мандельштам прочел ему про кремлевского горца. Выслушав, Пастернак сказал: "То, что Вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу Вас не читать их никому другому". (Заметки о пересечении биографий Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака. Память. Исторический сборник. Париж. 1981, стр. 316.)
Мандельштам, конечно, и сам прекрасно понимал, что, сочиняя - а тем более читая вслух, хотя бы и самым надежным слушателям из числа своих знакомых, - это стихотворение, он совершает акт самоубийства:
Утром неожиданно ко мне пришла Надя , можно сказать, влетела. Она заговорила отрывисто. "Ося сочинил очень резкое стихотворение. Его нельзя записать. Никто, кроме меня, его не знает. Нужно, чтобы еще кто- нибудь его запомнил. Это будете вы. Мы умрем, а вы передадите его потом людям. Ося прочтет его вам, а потом вы выучите его наизусть со мной. Пока никто не должен об этом знать. Особенно Лева". Надя была очень взвинчена. Мы тотчас пошли в Нащокинский. Надя оставила меня наедине с Осипом Эмильевичем в большой комнате. Он прочел:
"Мы живем, под собою не чуя страны и т.д. все до конца - теперь эта эпиграмма на Сталина известна. Но прочитав заключительное двустишие - "что ни казнь у него, то малина. И широкая грудь осетина", он вскричал:
Нет, нет! Это плохой конец. В нем есть что-то цветаевское. Я его отменяю. Будет держаться и без него! - И он снова прочел все стихотворение, закончив с величайшим воодушевлением: Как подковы дарит за указом указ - Кому в лоб, кому в пах, Кому в бровь, кому в глаз!! -
Это комсомольцы будут петь на улицах! - подхватил он сам себя ликующе.
В Большом театре! на съездах! со всех ярусов! - И он зашагал по комнате. Обдав меня своим прямым огненным взглядом, он остановился:
Смотрите - никому. Если дойдет, меня могут! РАССТРЕЛЯТЬ!
( Эмма Герштейн . Мемуары. Санкт-Петербург. 1998, стр. 51.)
Это было сказано не для красного словца. Конечно, могли расстрелять. Строго говоря, даже не могли не расстрелять. С момента ареста (его арестовали в ночь с 13 на 14 мая 1934 года) он - по собственному его признанию - все время готовился к расстрелу:
"Ведь у нас это случается и по меньшим поводам". Но когда он читал свою "эпиграмму" Эмме Григорьевне , эта жуткая перспектива маячила где-то на периферии его сознания как реальная, но все-таки не неизбежная угроза. В тот момент (это ясно видно из всего его поведения) он был упоен своей поэтической удачей и гораздо больше, чем страхом перед неизбежной расплатой, озабочен тем, чтобы стихотворение "держалось".
Запись Э. Герштейн неопровержимо свидетельствует, что сам Мандельштам вовсе не считал, что это его стихотворение - не факт поэзии, а всего лишь некий политический жест. В наше время взгляд на стихотворение Мандельштама про "кремлевского горца" как на лобовую и, выражаясь языком зощенковских героев, "маловысокохудожественную" эпиграмму стал уже общим местом.
Журналист Э. Поляновский , расследовавший историю гибели Мандельштама, высказывает даже сожаление по поводу того, что столь ничтожное стихотвореньице погубило поэта. Больше того: предположение, что это мелкое "литературное озорство" предопределило трагическую развязку его судьбы, представляется ему прямо-таки оскорбительным:
Принято считать, что единственное стихотворение погубило Мандельштама. Можно, конечно, пойти на костер и за единственное, если оно стало итогом жизни, невероятным последним взлетом. Но обличительный стих, как и хвалебный, - тоже невысокой пробы, здесь также не нужно быть Мандельштамом, чтобы написать его, в нем нет ни одного слова из тех, что знал только он один. Это не стихотворение, а скорее лобовая эпиграмма. Последняя строка грубо приколочена. Что ни казнь у него, - то малина. И широкая грудь осетина. "Что ни казнь" и "грудь" в подбор - даже неграмотно. Думать, что единственная, лишь однажды, несдержанность чувств привела его на эшафот - слишком прискорбно и несправедливо. Это упрощает и принижает поэта, низводя его до нечаянного литературного озорника. ( Эдвин Поляновский . Гибель Осипа Мандельштама. Петербург - Париж. 1993, стр. 107.)
Примерно в том же духе, - хотя и гораздо корректнее, - высказывается на эту тему другой наш современник - литературовед, посвятивший (тем не менее) этому короткому стихотворению специальное исследование:
"Это был выход непосредственно в биографию, даже в политическое действие (сравнимое, с точки зрения биографической, с предполагавшимся участием юного Мандельштама в акциях террористов-эсеров). Тяга к внеэстетическим сферам, устойчиво свойственная Мандельштаму, какой бы герметический характер ни принимала его лирика, в условиях 30-х годов разрешилась биографической катастрофой. ( Е.А. Тоддес . Антисталинское стихотворение Мандельштама (к 60-летию текста). В кн.: Тыняновский сборник. Пятые Тыняновские чтения. Рига - Москва, 1994, стр.199.) "Тяга к внеэстетическим сферам" - это, конечно, более тактичная формула, чем раздраженная (и явно испуганная) реакция Пастернака ("То, что Вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии"), но по существу - то же самое.
Художественную, эстетическую ценность стихотворения отметила, пожалуй, только одна Ахматова. Это видно из протокола допроса Мандельштама, записанного рукой следователя, где на вопрос:
"Как реагировала Анна Ахматова при прочтении ей этого контрреволюционного пасквиля и как она его оценила?", подследственный отвечает:
"Со свойственной ей лаконичностью и поэтической зоркостью Анна Ахматова указала на "монументально-лубочный и вырубленный характер" этой вещи? (Виталий Шенталинский. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ. М. 1995, стр. 236.) Поэтическую мощь, вот эту самую "вырубленность" образного строя стихотворения спустя целую эпоху почувствовал и по-своему выразил другой поэт - Фазиль Искандер . Он даже высказал весьма неординарное предположение, что именно этими своими качествами стихотворение впечатлило и самого Сталина: Ужас перед обликом тирана, нарисованный поэтом, как бы скрывает от нас более глубокий, подсознательный смысл стихотворения: Сталин - неодолимая сила. Сам Сталин, естественно, необычайно чуткий к вопросу о прочности своей власти, именно это почувствовал в первую очередь.
Наши речи за десять шагов не слышны. Конец. Кранты. Теперь что бы ни произошло - никто не услышит. А слова как тяжелые гири верны. Идет жатва смерти. Мрачная ирония никак не перекрывает убедительность оружия. Если дело дошло до этого: гири верны. Он играет услугами полулюдей. Так это он играет, а не им играют Троцкий или Бухарин. Так должен был воспринимать Сталин. Думаю, что Сталину в целом это стихотворение должно было понравиться. Стихотворение выража-ло ужас и неодолимую силу Сталина. Именно это он внушал и хотел внушить стране. Стихотворение доказывало, что цель достигается? (Фазиль Искандер. Поэты и цари. М. 1991, стр. 51-52.)
С мнением Искандера, предполагающим столь чуткую восприимчивость Сталина к сокровенному смыслу поэтического слова, можно и не согласиться. Но сама возможность такого прочтения подтверждает, что "эпиграмма" Мандельштама на Сталина, как пренебрежительно именовали это стихотворение некоторые современники, несет в себе заряд большой поэтической силы. Образ тирана, запечатленный в этих шестнадцати строчках, при всей своей лубочности ("Тараканьи смеются усища и сияют его голенища") и в самом деле словно вырублен из цельного куска и по- своему монументален. ("Его толстые пальцы, как черви, жирны, и слова, как пудовые гири, верны", "Как подковы кует за указом указ, - кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.)
И даже одного только первого двустишия, в котором отчаяние поэта отлилось в чеканную и емкую поэтическую формулу ("Мы живем, под собою не чуя страны, наши речи за десять шагов не слышны"), было бы довольно, чтобы поставить это стихотворение в один ряд с пушкинскими строчками:
"Беда стране, где раб и льстец одни приближены к престолу!" и лермонтовским:
"Страна рабов, страна господ". При всем при том (что там говорить, прав, прав современный исследователь) - факт создания этого стихотворения был и несомненным, прямым политическим действием, разрешившимся "биографической катастрофой2, то есть тем самым актом самоубийства, о котором говорил Пастернак. Поэтому может сложиться впечатление, что именно в создании Мандельштамом этого знаменитого антисталинского стихотворения и состоял его последний творческий акт. Но на самом деле это был только первый шаг. Только завязка сюжета, которая лишь предопределила его трагическую развязку. Сам же сюжет разворачивался довольно причудливо. Совсем не по установившемуся тогда шаблону.